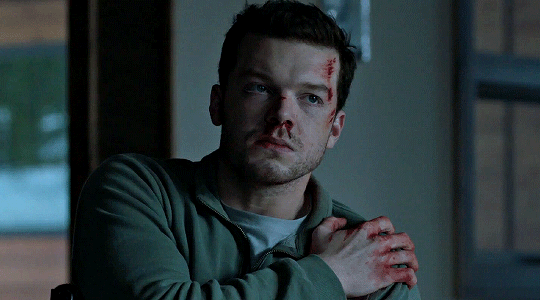РОКСИ ищет брата-близнеца
... Кейн - 24 - в душе не ведаюCameron Monaghan - ONLY!!!!
Он появился на свет там, где надежду продают как товар с мелким шрифтом, а чувство вины выдают на сдачу ещё в роддоме. Его детство не было историей — скорее режимом выживания: воздух в доме тяжёлый, как вчерашние пары спирта, взрослые рядом — не опора, а разбитые маяки, и одно и то же заклинание “прорвёмся”, которое повторяли люди, не умеющие выплывать даже сами.
У него была близняшка — как резкий, перегруженный звук, который прорывается через любую тишину. Она жила громко: смеялась так, будто смех может перекрыть прошлое, ругалась так, будто это спасает, играла музыку так, будто иначе не выжить. А он был другим треком на той же пластинке: паузы, осторожные ноты, мягкие движения по дому — лишь бы не разбудить монстров, которые спали в бутылке и просыпались без предупреждения.Вырезка из моей анкеты:
Когда мы с близнецом были мелкими, мы чуть не отъехали. Не из-за “болезни” или “несчастного случая”. Из-за взрослой тупости, отключки и похеризма. Это такая американская классика: дети платят за чужую слабость. Я помню обрывками — холод в животе, липкий страх, чьё-то дыхание в темноте и потом тишину, слишком чистую, почти похоронную. Если бы старшая не успела — этой истории бы не существовало. Точка.
Она оформила опеку и увезла нас в Тампу. Солнце, пальмы, океан — и ощущение, что рай здесь выдан на сдачу после ада. Тампа научила меня двум вещам: улыбки ничего не стоят и за безопасность всегда платят. Причём платят не те, кому нужно — а те, кто просто не может уйти.
Старшая заплатила первой. У неё была мечта — нормальная, красивая, “правильная”, из тех, что показывают в фильмах: сцена, аплодисменты, новые роли. Но мечты у нас в семье — предмет роскоши. Она сняла свою мечту с вешалки, сложила аккуратно и убрала в ящик, где лежат вещи “на потом”, которые никогда не наступает. А сама пошла танцевать стриптиз. Не потому что “это её выбор” в розовых цитатах из соцсетей. Потому что нам надо было есть. Потому что коммуналка не принимает оплату “надеждой”. Потому что близнецу нужны были новые кеды, а мне — школьные тетради, и ещё чтобы кто-то в доме был трезвее, чем табуретка.
Отношения со старшей держались на благодарности, страхе и вечном долге. Он любил её так, как любят спасателя: отчаянно и молча. Но рядом с ней он всегда чувствовал себя на экзамене. Старшая не умела быть нежной — она умела удерживать конструкцию от обрушения. Её любовь была дисциплиной. Контролем. Требованием “не усложняй”. И он с детства стал тем, кто не усложняет.
С близняшкой было иначе: она была одновременно домом и пожаром. Он знал, как быть рядом, когда ей плохо, и так же хорошо знал, как исчезать, когда она становилась слишком громкой — не назло, а по инстинкту. Уходить мягко и незаметно он научился раньше, чем научился просить. Ему казалось, что это и есть его роль: быть тихим, быть удобным, не превращаться в проблему.
Проблема всё равно выросла — просто внутри.
Его психика жила на “качелях”, и долгое время он не знал названия. В “светлые” периоды он будто становился лучшей версией себя: быстрый ум, энергия, планы, уверенность. Он мог почти не спать и не уставать, мог говорить легко и много, мог верить, что вот теперь он всё разрулит: семью, деньги, будущее, сестру. Он был слишком собранным, слишком решительным, слишком смелым — и в этой яркости было что-то опасное, но тогда ему казалось: наконец-то он нормальный.
Потом наступал провал. Внезапный, тяжёлый, как отключение электричества. Мир тускнел, вещи становились непосильными, простые действия — невозможными. Это была не просто грусть, а пустота, от которой не спасает сон. Он замыкался, переставал отвечать, исчезал из чужих жизней и из собственной — и ненавидел себя за то, что опять не справился.
Старшая видела эти провалы и злилась. Не на него — ей казалось, что она злится на слабость как явление. Она слишком много выдержала, слишком много заплатила, чтобы спокойно смотреть, как ещё один человек в их доме сходит с рельс. Её голос становился жёстким: “Соберись”. “Не разваливайся”. Иногда это звучало так, будто его состояние — предательство её труда. И он снова соглашался, потому что вина была привычной и понятной. Вина была удобной.
Была ещё одна вещь, которую он прятал глубже любого диагноза (отсылка к сериалу бесстыжие)
Он скрывал это автоматически, как скрывал всё, что могло усложнить жизнь. Их дом научил простому: слабость замечают. Слабость используют. Слабость ломают. А он не хотел быть ещё одним поводом для войны.
Он боялся реакции старшей. Ему казалось, она не станет слушать — не из жестокости, а из усталости. Для неё любая новая сложность выглядела как лишний мешок на спину: “не добавляй проблем”. И он молчал, выбирая безопасность молчания вместо риска правды.
Близняшка, наоборот, могла бы отреагировать легче — резко, цинично, как умеет она, но без ненависти. Она могла бы сказать: “Да забей, живи”. Проблема была в том, что он не умел “забивать”. Он умел держать.
И держал — пока не начал замечать, как близняшка становится похожа на их мать.
Сначала это выглядело невинно: “просто выпить после сета”. Потом — “успокоить голову”. Потом — “я контролирую”. Он узнавал ступени. Он помнил, куда они ведут. Он слышал в её смехе знакомую пустоту и видел в её глазах то же опасное “мне всё равно”, которое когда-то убивало их дом.
Старшая срывалась на неё всё чаще. Их ссоры звучали как финальные бои — будто победитель получит право дышать. Старшая смотрела на младшую как на пожар, который уже однажды сжёг дом, и теперь снова тянется к занавескам. Её ненависть к зависимости была не моральной — выжившей. Она вытаскивала детей руками из этого болота и не могла вынести, что младшая сама тянет эту дрянь в жизнь, как трофей.
Младшая огрызалась, грубила, делала больно словами — её броня давно приросла к коже. Она жила на сцене и за сценой одинаково. И чем сильнее её давили, тем громче она становилась.
А он оказывался посередине. Всегда.
Он пытался быть якорем, но сам не чувствовал дна. В периоды подъёма он писал планы: терапия, режим, лекарства, разговоры, “всё можно исправить”. Он говорил старшей: “Не дави”. Говорил близняшке: “Остановись”. Он верил, что способен удержать их обеих одной рукой.
Потом наступал спад — и он исчезал. Не потому что не любил. Потому что не мог. Потому что от одного их крика у него внутри всё падало, и он уходил в своё привычное спасение — тишину. Он становился аккуратным, незаметным, как будто отсутствие — это способ не быть разрушенным.
Близняшка это чувствовала. Она делала вид, что ей всё равно, но её взгляд цеплял его на секунду — как просьба, которую она никогда не произнесёт вслух. Ей нужен был свидетель, нужен был тот, кто останется. И он каждый раз испытывал стыд за то, что не остаётся. Стыд смешивался со страхом: если он приблизится, её хаос затянет его окончательно — а у него и так не было руля.
Он работал, платил счета, следил за бытом — всё, что можно измерить и контролировать. Порядок стал его религией. Если всё расставлено по местам, значит, мир ещё держится. Значит, он ещё держится.
Ночами он слышал, как младшая возвращается из клуба: шаги, ключи, глухой смех, иногда — звук бутылки. Этот звук поднимал в нём паническую память: детство, темнота, чужое дыхание, тишина “после”. Он хотел зайти к ней в комнату. Сказать хоть что-то настоящее. Обнять. Признаться, что он тоже боится стать копией родителей, только в более тихом формате. Признаться, что его настроение разрывает его изнутри, что ему иногда страшно от самого себя. Признаться, что он не уверен, кого любит и как вообще должен жить.
Но он не заходил.
Он боялся её глаз — потому что в них мог увидеть себя. Боялся старшей — потому что не выдержал бы её разочарования. Боялся правды — потому что правда в их семье всегда имела цену.
И всё же он знал: если младшая окончательно сорвётся, он потеряет не только сестру. Он потеряет последнюю часть себя, которая верит, что можно не повторить родительскую яму.
Он не был героем. Он не был громким. Он был тем, кто выживает в тени чужих катастроф, делая вид, что это и есть жизнь.
Но иногда — редко, на границе между подъёмом и провалом — в нём появлялась мысль, почти дерзкая: однажды он всё-таки перестанет быть удобным. Однажды он скажет вслух, что ему нужна помощь. Что “соберись” не лечит. Что молчание не спасает. Что любовь — это не только терпеть чужой огонь, но и признавать собственный.
И если им суждено выбраться, это будет не тихая победа и не красивая картинка.
Это будет правда, сказанная наконец-то вслух — без улыбки на выживание.дополнительно:
Приходи. Помоги мне закрыть гештальт с разнополыми близнецами. Намутим семейной драмы - разольем бензин и сожжём всё, до чего только дотянемся!!!
заметки для пассажиров
Вечер. Остановка. Жасмин |
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вечер. Остановка. Жасмин » nomad’s corner // партнерка » FLIP FLOPS
Вы здесь » Вечер. Остановка. Жасмин » nomad’s corner // партнерка » FLIP FLOPS